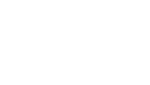То утро 8 марта 1944 года выдалось, как мне в свои неполные пять лет казалось, ясным, светлым, с запахом проклюнувшейся на пригорке травы, с весёлым щебетом птиц и вкусом парного, только что надоенного белопенного молока. И во всё это великолепие неистребимой весенней кутерьмы вмешались окрики солдат, стенания моей бабушки Курманкыз и матери Абат, стал непонятным взгляд всегда доброжелательных и мягких глаз моего старшего брата Салима, потерянно стоявшего около бабушки. Младшая сестрёнка Светлана бесшумно плакала, крепко уцепившись за подол бабушки, которая суетилась с грудным ещё Азретом на руках. Именно на его, Азрета, личике я увидел в тот миг, когда проснулся от топота сапог в коридоре, жестокий лик происходящего. Правда, осознал я это позже.
Бабушка металась по наружной комнате двухкомнатного домика, построенного перед войной отцом в качестве временного жилья до постройки большого, более вместительного дома, необходимые материалы для которого были заготовлены до последнего гвоздя. Оказывается, отец ждал наступления удобного для начала строительства момента. Но такой момент не наступил – началась война, и отец на восьмой день был уже на фронте.
В то утро в его доме-времянке хозяйничали солдаты, чтобы отправить в неизвестность семью воюющего за свободу Родины офицера – старшего лейтенанта. Мама выбрасывала из внутренней комнаты какие-то тряпки и говорила бабушке неестественным, потухшим голосом:
– Одевай на своего старшего сына (и тут она оставалась настоящей балкарской снохой – при свекрови не называла своих детей по именам и не могла говорить, что они её дети), на второго, на дочку свою.
Оказывается, она выбрасывала детские наши вещи из внутренней комнаты, чтобы по две-три пары одеть на каждого и взять побольше одежды.
– Хотя говорят, что уезжаете на три дня, берите побольше вещей и продуктов, – говорил (как потом рассказывала мать с благодарностью к этому молодому лейтенанту) молодой офицер срывающимся, глухим голосом, – сколько можете берите тёплых вещей, одеял...
Абат была учительницей начальных классов в школе и поэтому сносно знала русский. В коридоре стояли ещё два солдата с автоматами наперевес. Такая картина предстала передо мной в то утро. Я тоже в силу своего малого возраста не мог понять, что происходило в то на всю жизнь оставшееся в памяти утро марта месяца 1944 года... Обычно каждое утро будила меня бабушка. Когда сама, встав спозаранку, уже подоит корову, натопит печку до жару, приготовит кружку отдающего теплом коровьего вымени молока, чтобы я выпил его залпом натощак…
Она впервые в моей почти пятилетней жизни не улыбнулась мне. Увидев меня, она резким тоном сказала:
– Вставай сынок, поднимайся... Солдаты, стоявшие у дверей в коридоре, ничего для меня не значили. Лишь молодой человек, чем-то напомнивший мне дядю, брата матери, на фотографии, присланном им с фронта. Он тоже улыбнулся мне, но как-то неловко, неискренне, как мне показалось, холодно. И пресветлый лик моей бабушки потух для меня. А вместе с ним исчезло и моё ожидание тёплого, парного молока да жаркого кукурузного чурека, испечённого в золе.
До меня что ли было ей?.. И тем не менее она легко, не по возрасту торопко подскочила ко мне, говоря:
– Тур, жашым, тур, къоп (вставай, сынок мой, вставай, поднимайся). Тут же начала меня одевать, положив на тахту уже бодрствовавшего на её руках маленького Азрета. В её глазах были тоска и печаль, суровость и обречённость. Я потом напишу об этой боли, мной впервые увиденной:
В день праздника беда больнее бьёт.
Пропахла гарью скорбная планета.
Подснежники, пробившись в свой черёд,
Пытались в мир добавить каплю света.
В день праздника больнее бьёт беда,
Дымы из труб не восходили в небо.
И облаков растерянных стада
Над тишиной селений плыли мимо.
Тогда беда всего больнее бьёт,
Когда душа отворена для счастья.
И, словно птицу беспощадно влёт,
Её сражает горе в одночасье.
Как потом рассказывала мама, молодой лейтенантик не торопил, просил взять с собой столько, сколько можем унести муки, зерна, разрешил взять два тёплых одеяла, чтобы в случае чего можно было укрывать ими нас, четверых, по двое. Молодой лейтенант вскоре куда-то исчез. Остались те два солдатика с автоматами наперевес, чтобы сопроводить нас к месту сбора – на приречную, уже устланную молодой зеленью, поляну недалеко от нашего дома в сторону Нальчика. Там стояли студебеккеры. Туда сгоняли – именно сгоняли, как скотину! – всех, живших окрест.
– Открой двери сарая. Выпусти корову, телёнка. Отвяжи собаку, – кричала отрывисто моя бабушка отставшей маме, обернувшись у калитки, неся в одной руке Азрета, в другой – баул, а я шёл рядом, держась за её подол.
А мама задержалась потому, что один из солдат отобрал у неё второе одеяло, хватит, дескать, и одного. Мама не хотела отдавать. Но солдат был сильнее. Мама, спохватившись, побежала открывать сарай, и так и забыла об этом одеяле. И вспомнила о нём уже в конце 1945 года под Алма-Атой, в построенном своими руками селе, когда сразу заболели бабушка, её дочь Нафий, мои младшие сестричка и братик. И нечем было их укрыть. Тогда уже она выплеснула всё, что знала, на голову того солдата. Но его не было рядом...
Вот так семью офицера Советской Армии Гуртуева Султанбека Караевича – четверых его детей, его мать, сестру Нафий с четырьмя дочерьми – погрузили во вместительный кузов студебеккера и повезли в сторону Нальчика. Мне, поначалу радовавшемуся тому, что буду кататься на машине, на всю жизнь врезалась в душу такая картина: посуровевшее лицо обычно мягкой и ласковой моей бабушки; из глаз выкатились слезы, но они не текли вниз по лицу, а как-то застыли, словно прилипли к щекам замёрзшие капли дождинок; её немигающий взгляд в сторону кладбища, где нашёл свой последний приют наш дед Карай – она, видно, внутренне рада была тому, что дед остаётся лежать в родимом краю.
Моя мать, которая, к моей великой боли, скончалась в возрасте 97 лет, и
70 лет из них только тем и жила, что ждала моего отца с фронта, в тот день, 8 марта 1944 года, была как каменное изваяние. Женщина необыкновенной красоты вмиг превратилась в суровое сказание о жестокой правде.
Мы были виноваты без вины,
И с женщинами плакала природа...
Эти строки тоже я напишу потом. Моя тётя Нафий, её четыре дочери да и все женщины плакали в голос, как на похоронах. А они на самом деле хоронили свою кавказскую часть жизни, ибо некоторые, как оказалось, уезжали насовсем, их последним пристанищем окажутся земли те – чужие. Пространство между небом и Белой Речкой, казалось, сжалось, уплотнилось от плача вперемежку с рёвом домашней скотины настолько, что людям не стало хватать воздуха. Мы, дети, видя это, застыли в немом оцепенении. Как оказалось, плакали все балкарцы, а не только белореченцы.
Моя мама не плакала. Наверное, тогда мне запало в душу понятие: вселенская трагедия у некоторых изгоняет слёзы, когда она, трагедия, касается не одного тебя. Вот почему, наверное, моя мама при нас ни разу не проклинала жизнь, не опускалась до истеричного негодования против властей. Я ничего такого не слышал при её жизни никогда. Она жила ожиданием отца, оставшихся в живых двоих сыновей, которые сами уже старше своего отца на много лет и давно уже дедушки.
Опыт такой большой трагедии даёт мне право сегодня сказать, что я без оглядки отдам свою жизнь ради спокойной жизни сыновей Расула и Марата, дочери Джамили, внучек и внуков Дианы, Айгюль, Эвы и Иман, Азрета, Амины, Алия; сестры Ады и её детей – Алима, Жаннет, Ибрагима. Должен ли кто-то удивиться тому, если:
Ночью заснеженной дереву видится сон:
Каплями крови исходят, сочатся плоды.
Снег, окровавленный вьюгою,
ввысь вознесён,
Словно предвестие неотвратимой беды.
Соки живые свой бег замедляют в стволе.
Дереву снится: оно засыхает, гниёт. ...
Мартовской ночью не слышно ни звука
в селе.
Год до победы. Выслан балкарский народ.
Камень, морщинами трещин израненный
густо,
Камень, до блеска холодного времени
стёртый,
– Вы и опора в безверии неотвратимом,
И вожделенная слабость швыряющих
камни.
А моё детство, оказывается, уезжало на Восток на долгие годы.
2014 год.
Стихи в переводе
Аркадия Кайданова и Петра Градова